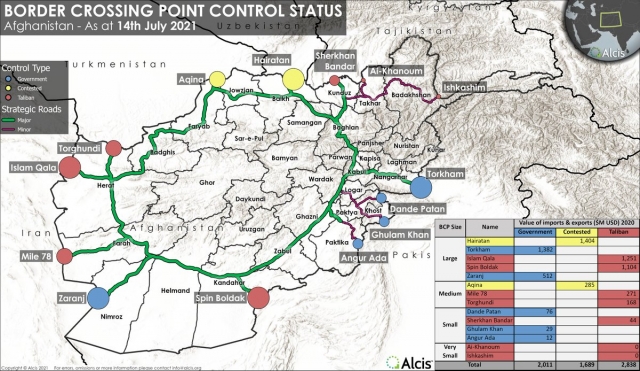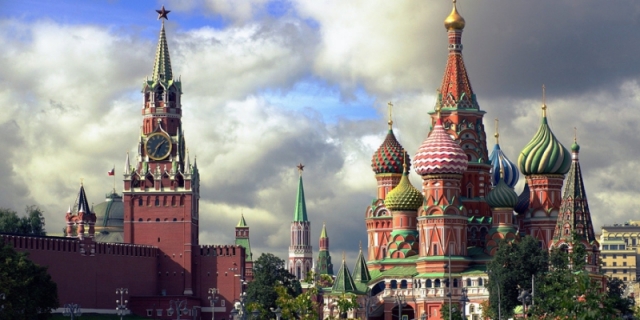Как Россия готовится к усилению экономического кризиса?
Учитывая создавшуюся кризисную мировую экономическую конъюнктуру и возможность провалов на финансовых рынках, все страны стараются принять адекватные меры, чтобы всеми силами сохранить завоеванные позиции. России также предстоит столкнуться, помимо санкций, и с новыми внешними атаками. Если страна претендует на системообразующую в новых условиях роль, ее экономика должна быть во всеоружии готова к доказательству своей прочности.
Какие меры возможно и необходимо принять, находясь в эпицентре внутреннего и внешнего финансовых кризисов, мы выясняли у экономиста Никиты Масленникова – директора департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущего эксперта Института современного развития.
 «Колокол России»: Прокомментируйте, пожалуйста, слова президента РФ Владимира Путина: «Правительство занимается экономикой постоянно и ежечасно, поэтому волноваться по этому поводу не стоит».
«Колокол России»: Прокомментируйте, пожалуйста, слова президента РФ Владимира Путина: «Правительство занимается экономикой постоянно и ежечасно, поэтому волноваться по этому поводу не стоит».
Н.М.: Является ли состояние экономики предметом озабоченности правительства? Да, является. Именно это и имел в виду президент. И волноваться по поводу того, что правительство не видит проблем, которые существуют не стоит. Видят.
КР: Помощник президента РФ Андрей Белоусов сказал: «В чем сложность сегодняшней ситуации? Первый момент – у нас рубль сегодня находится в плавающем состоянии. И у нас сейчас уже нет тех золотовалютных резервов или валютных резервов, которые мы могли использовать для поддержки рубля в 2013 году».
Н.М.: Если у нас есть плавающий курс, а рубль еще с прошлого года существует в этом режиме, то у нас нет необходимости поддерживать курс валютными интервенциями. А раз нет необходимости, нет надобности и тратить международные резервы России на поддержание курса рубля. Это просто совершенно другие реалии и другие правила валютной политики. Эта стратегия выбрана совершенно справедливо. Если бы мы держали курс, как это было в 2008–2009 годах, мы бы потеряли существенно больше. Потому что даже те интервенции, которые проходили в конце прошлого года, не соизмеримы с тем, что мы затратили 200 миллиардов долларов на ступенчатую девальвацию в ходе рецессии 2008 года. На сей раз это абсолютно не нужно. И когда говорят, что нет резервов, понимается это неверно. Средства есть и в достаточном количестве – более 380 миллиардов долларов, но нет необходимости тратить их на поддержание курса. Ведь плавающий курс позволяет нам экономить международные резервы и при необходимости использовать их в других целях. У нас сохраняется подушка безопасности. Если «держать» курс, эту подушку безопасности мы бы потратили, возможно, уже к настоящему времени.
КР: При таких обстоятельствах, возможен ли к новому году курс доллара 100 рублей?
Н.М.: Я исключаю подобную возможность. Рубль сейчас достаточно жестко следует за ценой на нефть. Чтобы курс составил 100 рублей за доллар, нужно чтобы нефть упала до 30–25 долларов за баррель. На сегодняшний день это никак не просматривается. Цена может колебаться. Она способна на короткое время опуститься до 40, но может и взлететь до 50–58 долларов. Важно среднее медианное (статистическое – ред.) значение. Оно до конца года составит около 50 долларов за баррель плюс-минус 1,5-2 доллара в обе стороны. В этих условиях курс доллара должен быть около 65–67 рублей за доллар. Но могут быть, конечно, отдельные скачки. При низких ценах на нефть, если они обвалятся ниже 40 долларов за баррель, американская валюта может и до 75 добираться. Если исходить из среднего значения, цена в 100 рублей за доллар мне сейчас не видится. Если, конечно, не случится нечто такое, от нас не зависящее, и весь мир не обрушится в новую глобальную рецессию. Чего гипотетически исключать, конечно, нельзя. Но пока эта гипотеза никак не складывается из того, что мы видим. В мировой экономике скользко, это факт, но надо внимательно смотреть под ноги и по сторонам. Я думаю, что сегодня уровень международной координации, чтобы не допустить такого развития событий, гораздо более глубокий, чем это было еще в ходе предыдущего кризиса. Нельзя, конечно, исключать повторения таких рецидивов и потрясений на финансовых рынках, связанных и с Китаем и с США, которые могут принести сюрпризы.
КР: Если провалы на мировых рынках, действительно, произойдут, может ли это привести к масштабным экономическим и геополитическим изменениям в мире?
Н.М.: Пока не видно, пока все в рабочем штатном порядке. Неприятно, скользко, можно многое потерять, но это касается всех участников рынка. Кстати, финансовые рынки с начала года на снижении капитализации своих инструментов уже потеряли 5 триллионов долларов, но ничего. Как-то живы-здоровы. Это лишний раз указывает на то, насколько финансовые рынки оторвались от реальной экономики. Очень часто импульсы, которые могли бы обрушить реальную экономику, застревают в самом ареале обитания финансовых рынков. И дальше не проходят, хотя для них это достаточно неприятно.
КР: Необходимо ли в этих условиях стремиться сохранить статус-кво (докризисный), или созрела потребность провести структурные реформы в экономике? Необходимо ли РФ ставить конкретные цели в экономике?
Н.М.: Вопрос не в том, что назрела необходимость. Это совершенно безальтернативно. Необходимо провести структурные реформы и начать сокращение реальных государственных расходов и изменение их приоритета: условно говоря, перебросить с обороны, безопасности и нецелевых социальных трансфертов средства на человеческий капитал: на образование, здравоохранение, науку. Этот маневр и запускает структурные маневры во всем мире. Структурные реформы с финансовой точки зрения фактически значат, что там, где государственных расходов с избытком, должно быть больше рыночных отношений. Плюс ко всему не должно быть столько государственного сектора в экономике, как сейчас – почти 60% ВВП. А нужно больше частного капитала как реального двигателя экономики. С этим у нас проблемы: у нас отсутствует конкуренция во многих секторах и много чего еще. Если мы не производим структурные реформы, мы получаем гарантированный экономический рост не выше 1,5 %. От наследия госрегулирования нужно избавляться – экономика на сегодняшний день требует других подходов. С экономики спроса необходимо переключаться на экономику предложения. У нас возникает любопытная картина: у государства темпы роста 1,5 %, а при этом, чтобы обеспечить социальные обязательства – пенсии, зарплаты бюджетникам, военнослужащим, финансирование госзаказов на оборонную промышленность, темпы роста должны быть, как минимум, 3,5%. И без структурных реформ они не увеличатся. Значит, надо на них идти – вопрос в умении их проводить и в политической воле. Пока больше разговоров об их необходимости, но нет готовности идти по этому пути.
КР: Несмотря на правительственную программу импортозамещения на полках магазинов все дорожает. Почему положение настолько плачевно?
Н.М.: Это совершенно естественная реакция экономики. Хотя именно политика импортозамещению через несколько лет сыграет свою роль. Уже сегодня на некоторых локальных рынках видно: российских продуктов и продуктов из ЕврАзЭС становится явно больше. Здесь худо-бедно, но ход истории идет хоть и медленно, но достаточно глубоко. Но не надо себя тешить иллюзией, что все произойдет, ко всеобщему счастью, в одну ночь с понедельника на вторник, и полки будут набиты нашей родной продукцией. Это далеко не так. Для этого потребуется, в частности, в мясном животноводстве не менее 5 лет, по другим направлением, может быть, чуть поменьше. Это среднесрочный период, это долго и непросто. Что касается роста цен на данный момент – встречные санкции сокращают объем товарной массы, соответственно, стоимость товаров увеличивается. Вот вам и результат влияния внешнеполитических коллизий на состояние экономики. А что касается импортозамещения, здесь есть несколько приоритетов, которых необходимо придерживаться. Это и кооперационные поставки в рамках военной и гражданской стратегической отрасли (ТЭКи, бурительные комплексы), а также аграрного сектора. Во всех остальных отраслях нынешняя эйфория, мягко говоря, крайне сомнительна. Во-первых, у нас предприятия, так или иначе, завязаны на импортные поставки, во-вторых, предприятия не могут найти качественных аналогов на импортные товары – они либо не производятся в РФ, либо не годятся по каким-либо причинам. И, в-третьих, до 70% товаров реализуются в рамках стратегии добавленной стоимости – при соотношении технологической кооперации, при которой задействованы десятки фирм из 10 стран и более. Любая средняя компания в области машиностроения имеет множество участников производства – минимум из 7–9 зарубежных государств. У «Боинга» и «Мерседеса» этот показатель доходит до 100 наименований. Для нас очень важно участвовать в такого рода цепях, и нам необходимо импортировать продукцию, чтобы создать нечто свое, а затем – отправить дальше. Импортозамещение здесь приобретает ярко выраженную экспортную окраску.
Есть и другой способ: реверсное импортозамещение – сначала мы помогаем своим компаниям выйти на рынок с тем, чтобы они там заняли определенные ниши, а затем они возвращаются в «родные пенаты» с умением производить продукцию импортных аналогов. С таким понимаем импортозамещения у нас крайне плохо. Сейчас необходимо сделать первые шаги, чтобы прийти к такой стратегии, которая естественна. Это лучше, чем пытаться произвести у себя все и вся. Подобная стратегия ни к чему хорошему не приведет. И мы получим характерный опыт Северной Кореи.
КР: Нефть на мировых биржах дешевеет, а в России (которая сама добывает нефть) бензин подорожал за год приблизительно на два рубля. Почему?
Н.М.: Здесь как раз все понятно – последний скачок цен на бензин связан с тем, что у нас, примерно, 10 нефтеперерабатывающих заводов ушли на модернизацию. Стечение обстоятельств. Цены на нефть упали, а у нас так совпало. Необходимо модернизировать свои мощности, и очень сильно тянуться, так как у нас коэффициент переработки ниже среднемирового. Скажем, среднемировой показатель – 38 стран экономического сотрудничества и развития, которые считаются странами с развитой экономикой, имеют коэффициент обработки 92%. У нас он намного ниже. Таким образом, если мы не будем модернизироваться, то никогда не получим повышения качества бензина. Поэтому этот процесс естественен. И, хотя компании успели накопить резерв для внутреннего рынка, бензин будет немного дорожать согласно общему индексу потребительских цен. Если, по прогнозам аналитиков, инфляция составит порядка 12% – довольно реалистичный рабочий сценарий, без пессимизма, тогда цена на бензин тоже увеличится на 13–14%. Но это будет зависеть и от других факторов, в том числе и от курса рубля, и от цены на нефть, если исключить форс-мажорные факторы.
Беседовала Алёна Ханенкова